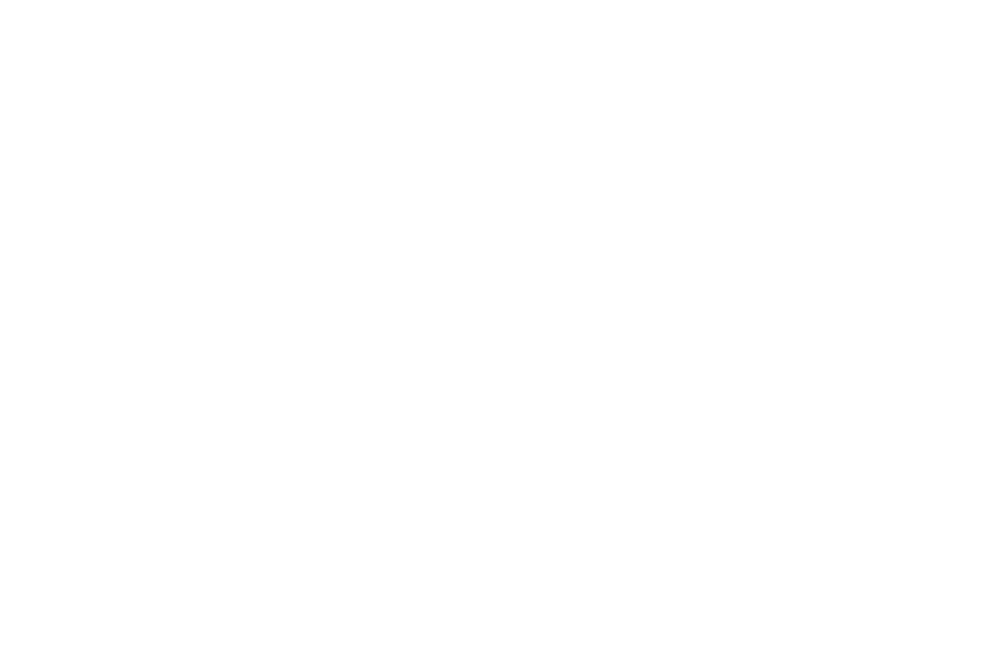Verification: 424ddac4c9c290d4
история в письмах
Братья Булгаковы
Свидетели пленения и первые опекуны графа
Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова
Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова
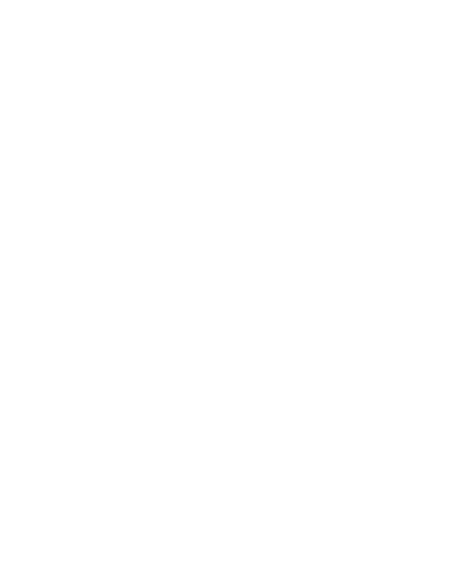
Александр Молинари
Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863) — дипломат, сенатор, московский почт-директор
Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863) — дипломат, сенатор, московский почт-директор
“
Мамоновой писал я недавно через тебя. К брату ее приставлен караул в подмосковной. Операция совершилась без шума. Рано поутру, покуда был он в библиотеке, взяли все оружие из его кабинета; а как он возвратился в оный и, не найдя оружия, пошел за оным опять в библиотеку, то нашел, что и там все было взято. С предводителем обошелся он с большим хладнокровием, но отказал в подписке, что впредь людей бить не будет, и отвечал: «Может ли вам князь дать подписку, что не будет наказывать своих подчиненных? Это не от него, а от них зависит. Все, что могу вам обещать на словах, это то, что ежели люди не будут того заслуживать, то я их наказывать не стану. Я желаю ехать в Москву сам объясниться». — «Вы под арестом, и мы вас туда пустить не можем». Тогда написал он к князю [Д.В.Голицыну] письмо. Говорят, что имение взято под опеку, и это мне кажется несправедливо. Мужики Мамонова счастливы, ибо, верно, нет в русском царстве помещика, который брал бы оброку с мужиков то, что они платили за 60 лет деду. Мамонов берет по 10 рублей, а мог бы легко получать по 80 рублей оброка в год. Запретить въезд в столицы может, кажется, один только государь; а нужно было только взять меры, чтобы помешать Мамонову слишком жестоко наказывать окружающих людей. Это так; увидим, что будет впоследствии. Адъютант Толстой [Василий Сергеевич] остался у Мамонова в Дубровицах до новых приказаний князя Дмитрия Владимировича."
Действующие лица
Галерея упомянутых в письмах
- Графиня Мария Александровна Дмитриева-Мамонова (1788 - 1848). Несмотря на публичность персоны, портретов графини пока не обнаружено.
- Дмитрий Владимирович Голицын, (1771—1844) — военный деятель Наполеоновских войн (генерал от кавалерии), который в течение четверти века осуществлял управление Москвой (1820—1844, в должности военного генерал-губернатора).Военная галерея Зимнего дворца / commons.wikimedia.org
- Василий Сергеевич Толстой (1797 - 1829)
“
Видел я Негри, возвратившегося от Мамонова, который так ему обрадовался, что плакал, обняв его. Бедный не спит, все ночи просиживает, думая, что его хотят убить начинают случаться припадки бешенства. Он заперт в единственной комнате, у каждой двери стоят солдаты, ему не дают ни вилки, ни ножа, и он говорит Негри: «Видите, до чего меня довели? У меня в моем доме всего одна только комната, где меня держат под наблюдением; как поступили бы с убийцей?» За обедом Негри не дают ножа, а как граф его спросил, то ему отвечали, что ему надобно только обедать в другой комнате, и тогда он получит нож. Напрасно граф говорил, что никогда не убьет Негри, единственного во всем белом свете, кто его не покинул, а что если бы он и захотел убить сам себя, то Негри, конечно уж, помешал бы. Негри, видя, что он никак не спит, сказал ему: «Ложитесь, господин граф, я довольно поспал, я вас посторожу»; он его упросил, и тот лег спать. Но когда он один, он не спит никогда, боясь все, что его убьют по приказанию Голицына. Жаль мне его, бедного. Он писал еще государю, прося позволения объясниться, и в случае вины подвергая себя самому строгому наказанию, испрашивает как благодеяния — не зависеть от Голицына. При хорошем уходе можно было бы вылечить этого бедного молодого человека.
“
Вчера привезли в город Мамонова, но связанного. Князь хотел посадить его в дом сумасшедших, на хлеб и на воду, но отменил; ему отделают две комнаты в его доме, будут одни диваны и более ничего, а то он сломал большие кресла, сделал себе из ручки булаву и оною чуть не убил бедного Негри, того, коему говорил: «Вы единственный на свете меня не оставили». Дело вышло от того, что Негри старался развязать Мамонову казацкие панталоны, кои, завязанные узлом, резали ему брюхо, долго не мог развязать; тот сердился, просил ножа, коего ему и за обедом не дают; однако же Негри побежал и выпросил с трудом у Толстого ножницы, обещая их принести назад. Разрезав узлы, хочет идти вон. «Куда вы пошли?» — «Я тотчас вернусь». — «Оставьте мне ножницы». — «Я тотчас их снова принесу». Долго мешкал нарочно, чтобы граф забыл о них, возвращается — первый вопрос: ножницы? «Я забыл их у Толстого». — «А, так и вы тоже обманщик, вы против меня», — кинулся на свою булаву. «Во имя неба, господин граф, разве вы меня уже не узнаете, что вы делаете, я Негри». Мамонов размахнулся. К счастью, Негри отскочил, и удар был сделан по столу, но так сильно, что ручка-булава переломилась надвое, второй обломок сделался менее еще; им не мог он сделать столько зла Негри, к коему опять подбежал с дубиною, метя в лицо. Негри хотел отклонить удар рукою, граф на оную нанес сильную рану. В эту минуту свалились его неподвязанные панталоны. Покуда стал он их поднимать, Негри, видя, что тут дело идет о его жизни, ударил графа кулаком в брюхо, повалил его, и ну бежать просить помощи; ударили тревогу, вошли солдаты и связали молодца.
Долго он ругал всех, наконец начал приходить в себя, потребовал Негри — нет его; просил Толстого, этот пришел, стал за стеклянною дверью с солдатами. «Чего вы хотите?» — «Пришлите ко мне Негри». — «Он едет в Москву; вы его прогнали, он больше не хочет вас видеть». — «Дайте мне Негри или смерти, скажите ему, что я связан по рукам и ногам, пусть придет, я должен с ним говорить». Решился Негри (это все сам он мне рассказывал), пошел к графу с завязанной рукою. «Вот так награда за интерес, который я к вам выказываю: видите мою руку, вы мне ее покалечили, а что я
Жаль бедного молодого человека. Говорят, что крестьяне Дубровиц рыдали при его отъезде. Что-то здесь будет, а, конечно, кончится это совершенным сумасшествием и бешенством. Хочется мне написать к сестре; не знаю, успею ли сегодня. Меня заверили вчера, что император писал князю Дмитрию Владимировичу, приказывая ему постараться смягчить участь Мамонова, но без опасности для окружающих его.
Долго он ругал всех, наконец начал приходить в себя, потребовал Негри — нет его; просил Толстого, этот пришел, стал за стеклянною дверью с солдатами. «Чего вы хотите?» — «Пришлите ко мне Негри». — «Он едет в Москву; вы его прогнали, он больше не хочет вас видеть». — «Дайте мне Негри или смерти, скажите ему, что я связан по рукам и ногам, пусть придет, я должен с ним говорить». Решился Негри (это все сам он мне рассказывал), пошел к графу с завязанной рукою. «Вот так награда за интерес, который я к вам выказываю: видите мою руку, вы мне ее покалечили, а что я
Жаль бедного молодого человека. Говорят, что крестьяне Дубровиц рыдали при его отъезде. Что-то здесь будет, а, конечно, кончится это совершенным сумасшествием и бешенством. Хочется мне написать к сестре; не знаю, успею ли сегодня. Меня заверили вчера, что император писал князю Дмитрию Владимировичу, приказывая ему постараться смягчить участь Мамонова, но без опасности для окружающих его.
“
Мамонова привезли сюда и заперли в одной комнате дома его. Князь Дмитрий Владимирович, по приказанию государя, выбрал четырех медиков для пользования его; тут и наш старик Пфеллер, бывший доктором и отца его. Филипп Иванович был у него вчера в первый раз, обошлось довольно хорошо; он Филиппа посадил, тогда как Шульгин тут стоял. Филипп Иванович несколько раз его насмешил, он-то и есть тот человек, какого ему надобно, ибо начал с «вашего превосходительства» и «господина графа», да «ваш ум, ваши познания и ваш патриотизм»; а иной раз и прикрикивал: «Вы много едите, пьете да спите, а совсем не двигаетесь, смотрите, как вы растолстели. Ваше превосходительство должны ездить верхом». — «Но у меня нет лошади». Пфеллер ну хохотать и прибавляет: «Ежели такой бедняк, как я, не имеет лошадей, то должен ходить пешком; но как граф Мамонов остался без лошадей, так пусть гикнет или свистнет, и ему тотчас приведут 100 лошадей вместо одной. Нет же, вам нравится быть домоседом. Ваше превосходительство прожили три года в Дубровицах, этом прекрасном имении, мне хорошо известном, и ни разу даже в саду не бывали; это все капризы, а капризы простительны барышням, а не человеку такого высокого ума, как ваше превосходительство». Расспрашивал об еде и проч., не хотел долго у него быть и сказал: «Не хочу затягивать свой визит, вам надобно отдохнуть после путешествия, в другой раз мы побеседуем подробнее. Поскольку на то воля вашего государя, и ваше превосходительство, кажется, хочет почтить меня своим доверием, то прошу дозволения вновь вас посетить». — «Вы всегда будете желанным гостем». Маркуса также принял на минуту, потому что брат его служил у Мамонова в полку, а Мудров и Скюдери допущены не были. Филипп Иванович сказал, что у Мамонова психическое и физическое расстройство, что будет очень трудно его вылечить, что надобно будет его ослабить, уменьшить массу крови, и Филипп Иванович говорит, что это совершенный Мамай или атаман — головою выше его, длинная черная борода, волосы в живописном беспорядке, красная русская рубашка с золотым галуном, казацкие шаровары, сверху всего армяк, цветные сапоги, глаза сверкают, руки в беспрестанном движении, а лицо багровое, — все вместе очень красиво. Имущество будет управляться черед опеку. Ночи он проводит, ругаясь на Голицына, а особливо на Толстого, расточая им самые грубые уличные прозвища, а также на князя Петра Волконского и еще некоторых лиц. В Москве теперь только о нем и судачат, и ты можешь себе вообразить, сколько басен сочиняют. Употребление крепких напитков ему положительно вредит, а он так свыкся с ними и с ленью, что сие вынудило его оставить общество; и тогда непомерное честолюбие ожесточило его и взволновало желчь в его теле. Негри мне сказывал, что утром он кроток как агнец, но после обеда к вечеру начинаются у него подергивания, и он уж не господин своему гневу; вот в одно-то из таких мгновений он Негри и поколотил. По четвергам ввечеру у него регулярно случается более сильный приступ бешенства, что совершенно необыкновенно и очень положительно. Толстой сие подметил за те два месяца, кои провел возле него.
“
Я, кажется, писал тебе, что Мамонов, увидев второй раз собрание медиков у себя, стал смеяться и говорить: «Ну что ж, давайте играть Мольерову пьесу! Вот Диафуарус старший (наш Пфеллер), а вот Диафуарус младший (Маркус), я чувствую себя что с ними говорить. С час после того получает Шульгин другое письмо от него, в коем Мамонов просит его дать знать всем сенаторам, чтобы они явились к нему вечером в 7 часов, что он имеет до них весьма крайнюю нужду. Надеюсь, все сие сумасбродство. Полагают, что хочет он пред генералами и сенаторами протестовать, будто не болен и не нуждается в лечении, коему хотят его подвергнуть. Человек сей уверен, что вся Европа только им и занята. Надобно рассеять его заблуждения. Я бы ему сказал напрямик: «Так как все ваши поступки доказывают, что вы помешались в уме, то готовьтесь явиться в Сенат, где вас освидетельствуют; ежели вы в полном рассудке, то получите свободу, а ежели Сенат найдет, что нет, то вас запрут в дом сумасшедших или в монастырь, а имение ваше возьмут в опеку». Тогда перестал бы, может быть, блажить, а то его трактуют как коронованного принца. Шульгин перед ним не садится, все его величают, чтобы его не раздражить, а он берет это за наличные деньги. Он всех величает канальями, ворами. Князя Дмитрия Владимировича ругает при всех. Просил ножей и вилок за обедом, Шульгин отвечал: «Это не дают вам, граф, для вашего же добра; ваше сиятельство можете себя ушибить, изувечить». Знаешь, что он отвечал? «Я не так глуп, чтобы себя увечить, а ежели нож употреблю, то разве против тебя, Голицына и вам подобных». Экий сахар!
“
Сюда приехал Клейнмихель; говорят, что это для разобрания мамоновских проказ. Ежели так, то будет же ему работа. Мамонов ругает и ненавидит всех немцев, здесь служащих.
- Франц Крюгер Пётр Андреевич Клейнмихель военный, чиновник, позднее руководил строительством нового здания Эрмитажа, Храма Христа СпасителяО том, как Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов и Дубровицы связаны со строительством Храма Христа Спасителя - постараемся рассказать как нибудь позже.
- Пфеллер фон Филипп Иванович (1750, Страсбург -1839, Москва), доктор медицины, заслуженный профессор, действительный (1826).Лютеранин. Масон. Сеньор капитула с 1.5.1818. В Россию приехал в 1784 г. В 1787 г. был принят на службу и определен в г. Саранск . В 1791 г. – ординатор Московского генерального военного госпиталя. С 1805 г. – профессор физики и математики в Московской МХА. профессор Московской МХА. В 1819 - 1833 гг. служил главным доктором лазарета при Московском почтамте. Член Общества врачебных и физических наук при Московском ун-те.
- Маркус Михаил Антонович (1790—1865) — российский лейб-хирург, доктор медицины, действительный тайный советник (1865).С 1825 года главный врач Голицынской больницы. С 1827 по 1829 годы издавал «Врачебные записки». С 1833 года избран членом Французской академии наук, в этом же году «за самоотверженную практическую и исследовательскую работу по излечению от холеры» Маркусу была присуждена Монтионовская премия. С 1834 года врач великой княгини Елены Павловны, в 1837 году назначен лейб-медиком к императрице Александре Фёдоровне.В 1812-м году полковым врачом и приближенным человеком при графе Воронцове (который отправил под опеку Пушкина). Позднее Толстой встречался с доктором Маркусом. Его рассказы стали источником ценных сведений при написании "Войны и мира".
“
Вчера видел я приехавшего с женой (которую я знал девицею в Карлсбаде) Михаила Орлова. Кажется, женитьба пошла ему на пользу; он хорошо выглядит, думает пробыть здесь некоторое время и поджидает я поговорю об этом с Шульгиным; этот пришел в театр позднее, я с ним говорил, и он назначил встречу с Орловым на нынешнее утро, чтобы вместе пойти к Мамонову. Только Шульгин не ожидает ничего хорошего. Он сказал Мамонову, что Орлов приехал. «Тем лучше, — отвечал Мамонов, — кстати! — И потом, взяв на себя вид начальника, прибавил: — Извольте завтра приковать к позорному столбу Ивана Ивановича Дмитриева, графа Ростопчина и Михаила Орлова!» — «Как, и Орлова, с которым вы так дружны?» — «Да, Орлова; он карбонар, давно пора его проучить». Такой отзыв не обещает хороший прием*. Увидим, что-то будет. Только видно, что блажь все более и более умножается, а все один пункт: все хочет командовать всеми. Теперь и Шульгина начал ругать ужасно, всякий день пишет ему бранные письма. «А вы, — говорит Шульгину, — сдайте мое имение, деньги. Я не хочу, чтобы вы ими управляли», — а у Шульгина никогда и не было ничего на руках. Он становится очень зол, особенно за то, что не дают ему водки, вина, щей и ветчины.
* Князь П.А.Вяземский сообщал, в похвалу отваге М.Ф.Орлова, что он все-таки посетил приятеля своего, графа Мамонова, и даже не усомнился ночевать в одной с ним комнате.
** Об этом эпизоде см. статью Ю.М. Лотмана "Пушкин и М.А. Дмитриев-Мамонов"
* Князь П.А.Вяземский сообщал, в похвалу отваге М.Ф.Орлова, что он все-таки посетил приятеля своего, графа Мамонова, и даже не усомнился ночевать в одной с ним комнате.
** Об этом эпизоде см. статью Ю.М. Лотмана "Пушкин и М.А. Дмитриев-Мамонов"
“
Сюда приехал Клейнмихель; говорят, что это для разобрания мамоновских проказ. Ежели так, то будет же ему работа. Мамонов ругает и ненавидит всех немцев, здесь служащих.
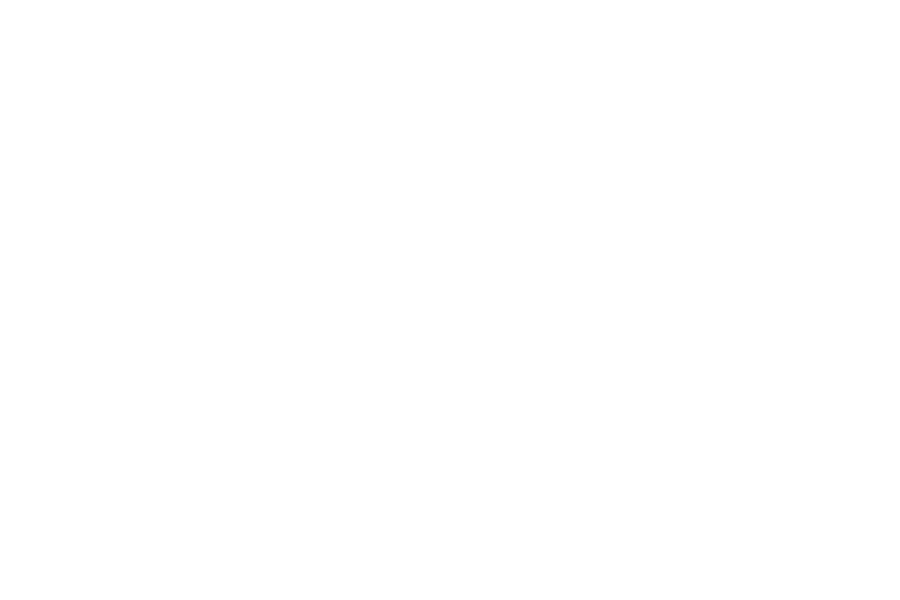
11 июня 1826 года в доме Ланге у Никитских ворот, в Малом Кисловском переулке, открылась Московская глазная больница. Первым главным врачом больницы в течение 31 года был Петр Федорович Броссе. Как и многие граждане города Москвы, он оставлял свое жалование в ее пользу. Именно на эти пожертвования через четыре года у графини Дмитриевой-Мамоновой был куплен каменный дом с мебелью и надворными постройками, на углу Тверской улицы и Мамоновского переулка.
С 15 ноября 1830 и по сей день глазная больница располагается в этом здании. В 1940 году во время реконструкции Тверской улицы здание было передвинуто вглубь переулка Садовских и развернуто фасадом по переулку, где находится по сегодняшний день.
С 15 ноября 1830 и по сей день глазная больница располагается в этом здании. В 1940 году во время реконструкции Тверской улицы здание было передвинуто вглубь переулка Садовских и развернуто фасадом по переулку, где находится по сегодняшний день.
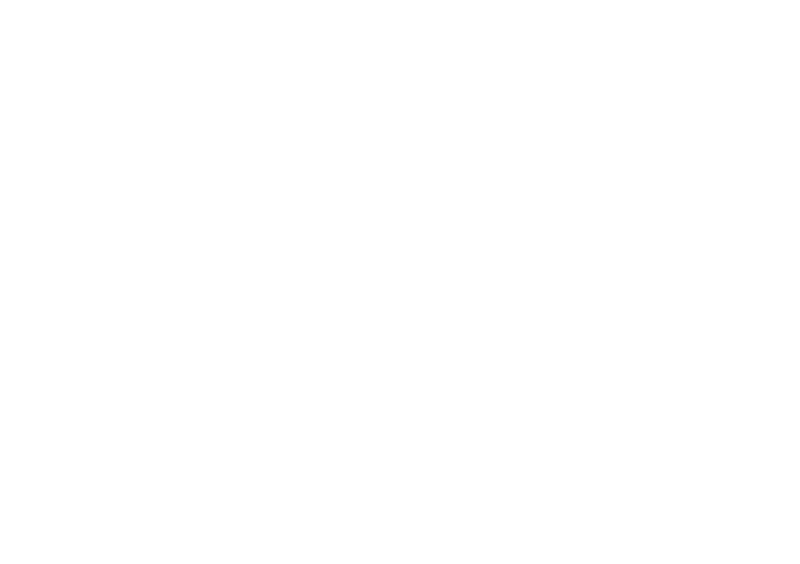
Здание Дворянской опеки на Солянке
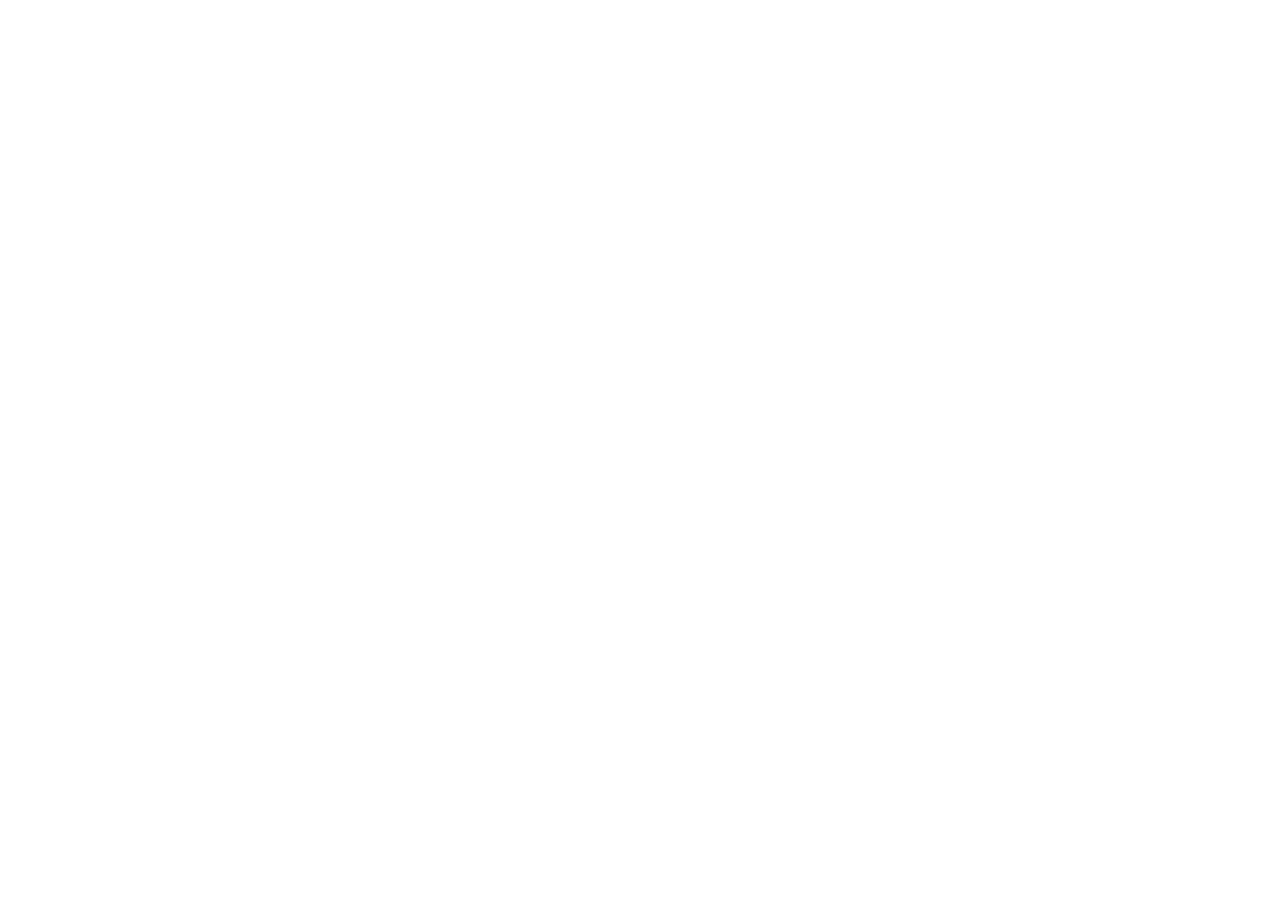
П.П. Павлов Фотография дома на бывшей Мамоновской даче близ Воробьевых гор
В обширной и хорошо изученной теме "Пушкин и декабристы" есть еще недописанные страницы. К ним относится история отношений Пушкина с Орденом Русских Рыцарей. Этот сложный вопрос имеет много аспектов. Одна его сторона связана с Кишиневом, ибо, вопреки распространенному мнению, можно полагать, что в Кишиневе Пушкин столкнулся не с каким-то одним, хорошо организованным, единым декабристским обществом, а с несколькими и даже далеко не всегда взаимно скоординированными отголосками движения декабристов. Так, до сих пор остается неясным, какую декабристскую организацию представлял в Кишиневе Михаил Орлов: был ли он в эту пору связан с Орденом Русских Рыцарей, как представлял он себе отношение Ордена и одного из его руководителей, графа М. А. Мамонова, к его кишиневской деятельности. Эти и многие другие вопросы требуют специального рассмотрения. В настоящей работе мы сосредоточим внимание на относительно частной проблеме: на том впечатлении, которое произвела на Пушкина личность графа Мамонова.
Пушкин никогда не встречался с Дмитриевым-Мамоновым и, более того, видимо, не имел достаточно проверенных, точных сведений о его личности и деятельности. Казалось бы, у него были прямые пути получить на этот счет самую подробную информацию. В годы, когда интерес к Ордену Русских Рыцарей у Пушкина проявлялся особенно заметно, то есть в конце 1820-х - начале 1830-х гг., Пушкин встречался с одним из организаторов Ордена, близким сотрудником Мамонова, Михаилом Орловым. Однако эта тема, видимо, не была затронута в разговорах Пушкина с Орловым, и даже если Пушкин поднимал ее когда-либо, то совершенно очевидно, что Орлов не был склонен даже с близкими друзьями обсуждать этот вопрос. Дело в том, что положение Орлова после восстания было исключительно трудным и двусмысленным. С одной стороны, ему приходилось из тактических соображений подчеркивать, что он не был непосредственным участником заговора, что он якобы, несмотря на неоднократные приглашения членов общества, порвал с ним и непосредственно действий, которые можно было бы трактовать как криминальные, не совершил. Поэтому он был не расположен касаться тех сторон, которые представлялись особенно преступными в глазах правительства и остались за пределами внимания следствия. С другой стороны, Орлов болезненно переживал то недоверие, которое выказывали ему его вчерашние соратники, видевшие, что один из крупных деятелей движения непонятным образом оказался подвергнутым сравнительно малым репрессиям. Это ставило Орлова в двусмысленное положение, было предметом его мучительных душевных переживаний и двусторонне обусловливало нежелание его касаться тех вопросов, которые могли показаться особенно щекотливыми. Можно, не опасаясь нарушить истину, предположить, что ни с кем, в том числе и с Пушкиным, затрагивать эту щекотливую тему в конце 1820-х - начале 1830-х гг. Орлов не был расположен.
Пушкин, вероятно, заинтересовался судьбой Мамонова, столкнувшись с многочисленными слухами, которые повторялись, особенно в Москве, еще долгие годы и носили, как правило, фольклоризированный характер. Но у Пушкина была возможность получить, и в достаточной мере, полную информацию из близкого источника - князя П. А. Вяземского.
Отношение Вяземского к Мамонову было специфическим. С одной стороны, Вяземский, казалось, был очень осведомлен. Имение Вяземского находилось в близком соседстве с имением Мамонова - их разделяла лишь неглубокая река Вязьма* (конечно это Десна, а не Вязьма. Имение Вяземских в Остафьево и правда недалеко от Дубровиц. Ю.М. Лотман жил в Тарту и о названиях подмосковных рек знал гораздо меньше, чем о Пушкине - курсив наш), и земли соприкасались. Это было поместье, где Мамонов строил свою крепость и где в строгой изоляции, под величайшим секретом совершалась мамоновская деятельность по несколько фантастическому плану создания в центре России опорного военного пункта для будущего революционного действия. Мамонов как близкий сосед и как источник многочисленных фантастических слухов еще в первой половине 1820-х гг. вызывал любопытство Вяземского.
Мы знаем, что Вяземский делал попытки лично познакомиться с Мамоновым и посетить его в поместье. Известно, что обычная попытка, принятая в помещичьем кругу, - приезд соседа с дружеским визитом - натолкнулась на резкий отпор. Вяземский не был даже допущен в дом и вынужден был уехать, не встретившись с Мамоновым. Тогда он использовал окружной путь для знакомства. Он обратился к Орлову с просьбой рекомендовать его. Сама по себе ситуация своеобразная: для того чтобы познакомиться с соседом по поместью, надо получить рекомендацию от человека, живущего за сотни верст от поместья. Однако Орлов в мягкой форме отказал Вяземскому, прибегнув к тому способу, который между Орловым и Мамоновым был уже обговорен. Свое собственное посещение Мамонова Орлов скрыл следующим образом: распространил слух, что он тоже не был допущен к Мамонову, что Мамонов не видится ни с кем ("Как посетить невидимого?" - писал Орлов Вяземскому) и что он, Орлов, проник к Мамонову только силой, сломав дверь. Этот конспиративный слух отсекал возможность знакомства с Мамоновым по рекомендации Орлова. Однако Вяземский продолжал интересоваться Мамоновым и, видимо, накопил в своей памяти много слухов. Вероятно, это и был самый первый, ближайший источник, если не считать каких-то предшествующих туманных сведений и слухов, из которого черпал Пушкин материалы о таинственном затворнике.
В отношениях Вяземского и Мамонова имел место еще один не лишенный интереса эпизод. Вяземский, собирая в Москве деньги на выкуп крепостного музыканта, обратился с соответствующей просьбой и к миллионеру Мамонову. Мамонов, однако, резко отказал, заявив, что звук каждой ноты в концерте освобожденного музыканта будет ему враждебен. Смысл этого парадоксального заявления таков: Вяземский считает возможным и желательным скорейшее проведение освобождения крестьян вне зависимости от ограничения самодержавия и организует антикрепостническую политическую акцию. Мамонов исходит из того, что освобождение крестьян до конституционного преобразования России лишит дворянскую революционность народной поддержки и безгранично усилит власть правительства. По его мнению, крестьяне должны получить свободу только из рук дворян-революционеров. Тогда политической свободе будет обеспечена народная поддержка. Сравните, казалось бы, парадоксальное, как у Мамонова, утверждение Пушкина: "...остерегайтесь уничтожать рабство, особенно в государстве деспотическом" (XII, 194, 481).
В то время, когда Пушкин заинтересовался Мамоновым, судьба последнего, уже вступившего на свой трагический путь, для незнакомого посетителя выглядела приблизительно так. Мамонов находился в своем московском дворце, но, считаясь безумцем, одновременно подвержен был не только аресту, но и очень строгой изоляции. Свиданий с ним практически не имел никто, кроме группы надзирателей, специально подобранных докторов, а также доверенных политической полиции и мальчика-безумца, которого Мамонов воспитывал, держал при себе, любил и который был единственным существом, коему Мамонов доверял. Вероятным откликом Пушкина на слухи о судьбе Дмитриева-Мамонова является загадочное стихотворение "Не дай мне Бог сойти с ума...". Стихотворение это, впервые опубликованное в девятом томе посмертного издания (1842), условно датируется 1833 г. Датировка принадлежит П. В. Анненкову и основывается на содержании. Можно предположить, что тема сумасшествия и противопоставление романтического безумия трагической реальности навеяны не только мыслями о Батюшкове, тем более что реалии стихотворения не напоминают условий, в которых находился больной Батюшков. В стихотворении создается трагический образ сумасшедшего, подверженного насильственному лечению:
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут (III, 322-333).
Условия заключения Батюшкова, столь далекие от этой ужасной картины, были Пушкину хорошо известны: поэт посетил больного Батюшкова, окруженного заботой и попечением, и, конечно, не вынес впечатлений, напоминающих описанные в стихотворении. Пушкину могли быть известны глухие слухи о жестокой расправе с Дмитриевым-Мамоновым, который предвосхитил судьбу Чаадаева в самом страшном ее варианте: он был не только объявлен сумасшедшим, но и подвергнут грубому насильственному "лечению", в конечном счете действительно сведшему его с ума. Это был первый случай "карающей медицины" в истории России. Интерес Пушкина к судьбе Мамонова подсказал ему не только образ безумца в тюрьме: он был источником еще двух творческих сюжетов.
Размышления о судьбах России в 1812 г. неожиданно переплелись у Пушкина с мыслями о Мамонове. В повесть "Рославлев" Пушкин ввел упоминание о нашумевшем в том году событии, являвшемся первым проявлением политической активности Дмитриева-Мамонова: "Везде повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении" (VIII, 154).
Пушкин обошел ту сторону выступления Мамонова, которая придавала ему политическую остроту и высоко поднимала над длинным рядом патриотических речей этого периода. Указанный текст Мамонова до нас не дошел, но мы можем судить о нем по косвенным данным: Мамонов ставил - конечно, в осторожной форме - патриотические жертвы дворянства в зависимость от получения сословием политических прав: дворянство, выполняющее, по его убеждению, ведущую роль в спасении Отечества, должно получить права, ограничивающие самодержавие, и сделаться "помощником" царя в управлении. Выступление Мамонова не получило поддержки со стороны собравшихся в Москве представителей дворянства, но мстительный Александр I его не забыл.
Эпизод этот интересным образом отразился в "Войне и мире". Л. Н. Толстой разделил поступок Мамонова на две части. Одну из них он сохранил за историческим лицом, а другую передал Пьеру Безухову (образ Пьера Безухова - богача-магната, масона и декабриста - вобрал в себя, бесспорно, некоторые черты М. А. Дмитриева-Мамонова). В романе есть упоминание о том, что "граф Мамонов жертвует полк", и этот патриотический поступок толкает Пьера на аналогичные пожертвования. Политическую сторону активности Мамонова Толстой полностью передал своему герою: "Пьер с раннего утра был в волнении: необык- новенное собрание не только дворянства, но и купечества - сословий, etats generaux - вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о Contrat social и французской революции". Толстой влагает в уста Пьера речь в пользу дарования дворянству ограниченных конституционных прав: "Я полагаю, - говорил он, воодушевляясь, - что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и... chair a canon, которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со... со... совета".
Пушкин еще раз вспомнил имя Мамонова в "Рославлеве": жених Полины "вступил в Мамоновский полк" и погиб на Бородинском поле (VIII, 154). Исторически мамоновцы не принимали участия в Бородинском сражении (Мамонов лично был на Бородинском поле, но полк его еще только формировался). Однако Пушкину, видимо, было важно связать жениха Полины с именем этого популярного в Москве полка. Другой "мамоновский" замысел Пушкина связан с его устной импровизацией "Уединенный домик на Васильевском". Текст этой повести дошел до нас в записи (и, возможно, в некоторой обработке) В. П. Титова, опубликовавшего ее в 1829 г. в альманахе "Северные цветы" за подписью "Тит Космократов". Текст не был мгновенным капризом фантазии Пушкина: известны по крайней мере два случая его исполнения автором - в доме Карамзиных и у Дельвигов. Повесть впервые рассмотрена А. А. Ахматовой, убедительно показавшей ее органичность в творчестве Пушкина.
Если до Ахматовой исследователи склонны были считать основным автором Титова, отводя Пушкину весьма скромную роль, то после ее статьи связь "Уединенного домика" с сокровенными пушкинскими замыслами сделалась очевидной. Для интересующего нас сюжета особенно важны те наблюдения исследовательницы, которые касаются эпилога повести: "Безумие Павла совпадает с реальным "безумием" М. А. Дмитриева-Мамонова. Политический характер не то гамлетовского, не то чаадаевского помешательства". Эпизод этот А. А. Ахматова охарактеризовала как таинственный. Таким он и остается для исследователей. Ключом к пониманию может быть наблюдение самой Ахматовой, связавшей окончание "Домика" с обстоятельствами жизни Дмитриева-Мамонова. После смерти Веры Павел замыкается в строгом уединении, ведя таинственную и странную жизнь, в которой отчетливо выступают детали реальной биографии Дмитриева-Мамонова.
Вместе с тем не все утверждения А. А. Ахматовой кажутся одинаково убедительными. Так, исследовательница настойчиво подчеркивает мысль о том, что в пейзаже "Уединенного домика" зашифровано описание места захоронения казненных декабристов. Напомним, что Б. В. Томашевский придерживался иного мнения, связывая географию "Домика" с окраинами Петербурга в "Медном всаднике" и "Домике в Коломне". Мнение это представляется более убедительным. Укажем, что "Уединенный домик" не был произведением конспиративным: Пушкин публично читал его, как уже отмечалось, по крайней мере дважды.
Место захоронения декабристов, окруженное глубокой тайной, было сюжетом, категорически запрещенным. П. А. Вяземский, хранивший дома пять щепочек с места казни декабристов, почел за благо не снабжать их никакой надписью, несмотря на то, что трагическая памятка была глубоко запрятана в его кабинете.
Какую цель могло иметь описание места трагического мемориала в повести, которой развлекают дам? Очевидная связь с романтическим описанием городских окраин в повести А. Погорельского "Лафертовская маковница" (1825), в ироническом варианте - с "Домиком в Коломне", а позже - с дьяволизмом города в "Портрете" Гоголя и "Хозяйке" Достоевского создает устойчивую жанровую традицию, объясняющую замысел "Уединенного домика" гораздо лучше, чем сомнительные биографические интерпретации.
Без ответа, однако, остается поставленный Ахматовой вопрос: "После смерти Веры Павел сходит с ума. Но почему, скажите мне, он делает это точь-в-точь как самый знаменитый московский богач Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов?.."' Ответа на этот вопрос А. А. Ахматова не дает (в одном из вариантов работы она даже высказывает малоубедительное предположение, будто весь конец повести следует приписать В. П. Титову, который, "когда было нужно изобразить безумие, просто записал все слухи о Дмитриеве-Мамонове". Это неубедительно хотя бы потому, что никак не объясняет, чем связан такой конец повести с ее содержанием, кто бы ни был ее автором. Осмелимся высказать некоторые предположения, нимало не скрывая их сугубой гипотетичности.
Известно, что Пушкина интересовал сюжет "Фауста" (или "русского Фауста") и он многократно к нему обращался. Если рассмотреть повесть как рассказ о предыстории "петербургского Фауста", сделавшегося сначала жертвой волшебных сил, а затем погрузившегося в чернокнижие, то можно указать на некоторые дополнительные соображения. Основная часть сюжета повести рассказывает о торжестве нечистой силы над молодым героем, который "не со своим братом связался". Далее следует традиционное описание овладения героем колдовскими тайнами. Продолжение "фаустовского" сюжета должно было превратить Павла во владыку нечистых сил или в лицо, заключившее с ними договор. Завязанный таким образом сюжет открывал исключительные возможности для бытового или сатирического изображения в гётевском духе, а это, как известно, очень волновало Пушкина. По крайней мере, предполагая возможное развитие сюжета, нужно учитывать, что декабристские связи Мамонова остались для Пушкина тайной, как они были тайной и для исследователей до последних лет.
В Дмитриеве-Мамонове Пушкин видел не жертву политических преследований, а таинственную фантастическую фигуру "русского Фауста", чернокнижника, которого императорская реальность превратила в безумца. "Странные люди" вроде Мамонова или брата Орлова, израненного в 1812 г., а позже сделавшегося разбойником, неизменно волновали Пушкина - они давали возможность увидеть бытовую реальность при свете фантасмагории, а фантасмагорию понять как бытовую реальность.
1990
Источник: Ю.М. Лотман. О поэтах и поэзии
Пушкин никогда не встречался с Дмитриевым-Мамоновым и, более того, видимо, не имел достаточно проверенных, точных сведений о его личности и деятельности. Казалось бы, у него были прямые пути получить на этот счет самую подробную информацию. В годы, когда интерес к Ордену Русских Рыцарей у Пушкина проявлялся особенно заметно, то есть в конце 1820-х - начале 1830-х гг., Пушкин встречался с одним из организаторов Ордена, близким сотрудником Мамонова, Михаилом Орловым. Однако эта тема, видимо, не была затронута в разговорах Пушкина с Орловым, и даже если Пушкин поднимал ее когда-либо, то совершенно очевидно, что Орлов не был склонен даже с близкими друзьями обсуждать этот вопрос. Дело в том, что положение Орлова после восстания было исключительно трудным и двусмысленным. С одной стороны, ему приходилось из тактических соображений подчеркивать, что он не был непосредственным участником заговора, что он якобы, несмотря на неоднократные приглашения членов общества, порвал с ним и непосредственно действий, которые можно было бы трактовать как криминальные, не совершил. Поэтому он был не расположен касаться тех сторон, которые представлялись особенно преступными в глазах правительства и остались за пределами внимания следствия. С другой стороны, Орлов болезненно переживал то недоверие, которое выказывали ему его вчерашние соратники, видевшие, что один из крупных деятелей движения непонятным образом оказался подвергнутым сравнительно малым репрессиям. Это ставило Орлова в двусмысленное положение, было предметом его мучительных душевных переживаний и двусторонне обусловливало нежелание его касаться тех вопросов, которые могли показаться особенно щекотливыми. Можно, не опасаясь нарушить истину, предположить, что ни с кем, в том числе и с Пушкиным, затрагивать эту щекотливую тему в конце 1820-х - начале 1830-х гг. Орлов не был расположен.
Пушкин, вероятно, заинтересовался судьбой Мамонова, столкнувшись с многочисленными слухами, которые повторялись, особенно в Москве, еще долгие годы и носили, как правило, фольклоризированный характер. Но у Пушкина была возможность получить, и в достаточной мере, полную информацию из близкого источника - князя П. А. Вяземского.
Отношение Вяземского к Мамонову было специфическим. С одной стороны, Вяземский, казалось, был очень осведомлен. Имение Вяземского находилось в близком соседстве с имением Мамонова - их разделяла лишь неглубокая река Вязьма* (конечно это Десна, а не Вязьма. Имение Вяземских в Остафьево и правда недалеко от Дубровиц. Ю.М. Лотман жил в Тарту и о названиях подмосковных рек знал гораздо меньше, чем о Пушкине - курсив наш), и земли соприкасались. Это было поместье, где Мамонов строил свою крепость и где в строгой изоляции, под величайшим секретом совершалась мамоновская деятельность по несколько фантастическому плану создания в центре России опорного военного пункта для будущего революционного действия. Мамонов как близкий сосед и как источник многочисленных фантастических слухов еще в первой половине 1820-х гг. вызывал любопытство Вяземского.
Мы знаем, что Вяземский делал попытки лично познакомиться с Мамоновым и посетить его в поместье. Известно, что обычная попытка, принятая в помещичьем кругу, - приезд соседа с дружеским визитом - натолкнулась на резкий отпор. Вяземский не был даже допущен в дом и вынужден был уехать, не встретившись с Мамоновым. Тогда он использовал окружной путь для знакомства. Он обратился к Орлову с просьбой рекомендовать его. Сама по себе ситуация своеобразная: для того чтобы познакомиться с соседом по поместью, надо получить рекомендацию от человека, живущего за сотни верст от поместья. Однако Орлов в мягкой форме отказал Вяземскому, прибегнув к тому способу, который между Орловым и Мамоновым был уже обговорен. Свое собственное посещение Мамонова Орлов скрыл следующим образом: распространил слух, что он тоже не был допущен к Мамонову, что Мамонов не видится ни с кем ("Как посетить невидимого?" - писал Орлов Вяземскому) и что он, Орлов, проник к Мамонову только силой, сломав дверь. Этот конспиративный слух отсекал возможность знакомства с Мамоновым по рекомендации Орлова. Однако Вяземский продолжал интересоваться Мамоновым и, видимо, накопил в своей памяти много слухов. Вероятно, это и был самый первый, ближайший источник, если не считать каких-то предшествующих туманных сведений и слухов, из которого черпал Пушкин материалы о таинственном затворнике.
В отношениях Вяземского и Мамонова имел место еще один не лишенный интереса эпизод. Вяземский, собирая в Москве деньги на выкуп крепостного музыканта, обратился с соответствующей просьбой и к миллионеру Мамонову. Мамонов, однако, резко отказал, заявив, что звук каждой ноты в концерте освобожденного музыканта будет ему враждебен. Смысл этого парадоксального заявления таков: Вяземский считает возможным и желательным скорейшее проведение освобождения крестьян вне зависимости от ограничения самодержавия и организует антикрепостническую политическую акцию. Мамонов исходит из того, что освобождение крестьян до конституционного преобразования России лишит дворянскую революционность народной поддержки и безгранично усилит власть правительства. По его мнению, крестьяне должны получить свободу только из рук дворян-революционеров. Тогда политической свободе будет обеспечена народная поддержка. Сравните, казалось бы, парадоксальное, как у Мамонова, утверждение Пушкина: "...остерегайтесь уничтожать рабство, особенно в государстве деспотическом" (XII, 194, 481).
В то время, когда Пушкин заинтересовался Мамоновым, судьба последнего, уже вступившего на свой трагический путь, для незнакомого посетителя выглядела приблизительно так. Мамонов находился в своем московском дворце, но, считаясь безумцем, одновременно подвержен был не только аресту, но и очень строгой изоляции. Свиданий с ним практически не имел никто, кроме группы надзирателей, специально подобранных докторов, а также доверенных политической полиции и мальчика-безумца, которого Мамонов воспитывал, держал при себе, любил и который был единственным существом, коему Мамонов доверял. Вероятным откликом Пушкина на слухи о судьбе Дмитриева-Мамонова является загадочное стихотворение "Не дай мне Бог сойти с ума...". Стихотворение это, впервые опубликованное в девятом томе посмертного издания (1842), условно датируется 1833 г. Датировка принадлежит П. В. Анненкову и основывается на содержании. Можно предположить, что тема сумасшествия и противопоставление романтического безумия трагической реальности навеяны не только мыслями о Батюшкове, тем более что реалии стихотворения не напоминают условий, в которых находился больной Батюшков. В стихотворении создается трагический образ сумасшедшего, подверженного насильственному лечению:
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут (III, 322-333).
Условия заключения Батюшкова, столь далекие от этой ужасной картины, были Пушкину хорошо известны: поэт посетил больного Батюшкова, окруженного заботой и попечением, и, конечно, не вынес впечатлений, напоминающих описанные в стихотворении. Пушкину могли быть известны глухие слухи о жестокой расправе с Дмитриевым-Мамоновым, который предвосхитил судьбу Чаадаева в самом страшном ее варианте: он был не только объявлен сумасшедшим, но и подвергнут грубому насильственному "лечению", в конечном счете действительно сведшему его с ума. Это был первый случай "карающей медицины" в истории России. Интерес Пушкина к судьбе Мамонова подсказал ему не только образ безумца в тюрьме: он был источником еще двух творческих сюжетов.
Размышления о судьбах России в 1812 г. неожиданно переплелись у Пушкина с мыслями о Мамонове. В повесть "Рославлев" Пушкин ввел упоминание о нашумевшем в том году событии, являвшемся первым проявлением политической активности Дмитриева-Мамонова: "Везде повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении" (VIII, 154).
Пушкин обошел ту сторону выступления Мамонова, которая придавала ему политическую остроту и высоко поднимала над длинным рядом патриотических речей этого периода. Указанный текст Мамонова до нас не дошел, но мы можем судить о нем по косвенным данным: Мамонов ставил - конечно, в осторожной форме - патриотические жертвы дворянства в зависимость от получения сословием политических прав: дворянство, выполняющее, по его убеждению, ведущую роль в спасении Отечества, должно получить права, ограничивающие самодержавие, и сделаться "помощником" царя в управлении. Выступление Мамонова не получило поддержки со стороны собравшихся в Москве представителей дворянства, но мстительный Александр I его не забыл.
Эпизод этот интересным образом отразился в "Войне и мире". Л. Н. Толстой разделил поступок Мамонова на две части. Одну из них он сохранил за историческим лицом, а другую передал Пьеру Безухову (образ Пьера Безухова - богача-магната, масона и декабриста - вобрал в себя, бесспорно, некоторые черты М. А. Дмитриева-Мамонова). В романе есть упоминание о том, что "граф Мамонов жертвует полк", и этот патриотический поступок толкает Пьера на аналогичные пожертвования. Политическую сторону активности Мамонова Толстой полностью передал своему герою: "Пьер с раннего утра был в волнении: необык- новенное собрание не только дворянства, но и купечества - сословий, etats generaux - вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о Contrat social и французской революции". Толстой влагает в уста Пьера речь в пользу дарования дворянству ограниченных конституционных прав: "Я полагаю, - говорил он, воодушевляясь, - что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и... chair a canon, которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со... со... совета".
Пушкин еще раз вспомнил имя Мамонова в "Рославлеве": жених Полины "вступил в Мамоновский полк" и погиб на Бородинском поле (VIII, 154). Исторически мамоновцы не принимали участия в Бородинском сражении (Мамонов лично был на Бородинском поле, но полк его еще только формировался). Однако Пушкину, видимо, было важно связать жениха Полины с именем этого популярного в Москве полка. Другой "мамоновский" замысел Пушкина связан с его устной импровизацией "Уединенный домик на Васильевском". Текст этой повести дошел до нас в записи (и, возможно, в некоторой обработке) В. П. Титова, опубликовавшего ее в 1829 г. в альманахе "Северные цветы" за подписью "Тит Космократов". Текст не был мгновенным капризом фантазии Пушкина: известны по крайней мере два случая его исполнения автором - в доме Карамзиных и у Дельвигов. Повесть впервые рассмотрена А. А. Ахматовой, убедительно показавшей ее органичность в творчестве Пушкина.
Если до Ахматовой исследователи склонны были считать основным автором Титова, отводя Пушкину весьма скромную роль, то после ее статьи связь "Уединенного домика" с сокровенными пушкинскими замыслами сделалась очевидной. Для интересующего нас сюжета особенно важны те наблюдения исследовательницы, которые касаются эпилога повести: "Безумие Павла совпадает с реальным "безумием" М. А. Дмитриева-Мамонова. Политический характер не то гамлетовского, не то чаадаевского помешательства". Эпизод этот А. А. Ахматова охарактеризовала как таинственный. Таким он и остается для исследователей. Ключом к пониманию может быть наблюдение самой Ахматовой, связавшей окончание "Домика" с обстоятельствами жизни Дмитриева-Мамонова. После смерти Веры Павел замыкается в строгом уединении, ведя таинственную и странную жизнь, в которой отчетливо выступают детали реальной биографии Дмитриева-Мамонова.
Вместе с тем не все утверждения А. А. Ахматовой кажутся одинаково убедительными. Так, исследовательница настойчиво подчеркивает мысль о том, что в пейзаже "Уединенного домика" зашифровано описание места захоронения казненных декабристов. Напомним, что Б. В. Томашевский придерживался иного мнения, связывая географию "Домика" с окраинами Петербурга в "Медном всаднике" и "Домике в Коломне". Мнение это представляется более убедительным. Укажем, что "Уединенный домик" не был произведением конспиративным: Пушкин публично читал его, как уже отмечалось, по крайней мере дважды.
Место захоронения декабристов, окруженное глубокой тайной, было сюжетом, категорически запрещенным. П. А. Вяземский, хранивший дома пять щепочек с места казни декабристов, почел за благо не снабжать их никакой надписью, несмотря на то, что трагическая памятка была глубоко запрятана в его кабинете.
Какую цель могло иметь описание места трагического мемориала в повести, которой развлекают дам? Очевидная связь с романтическим описанием городских окраин в повести А. Погорельского "Лафертовская маковница" (1825), в ироническом варианте - с "Домиком в Коломне", а позже - с дьяволизмом города в "Портрете" Гоголя и "Хозяйке" Достоевского создает устойчивую жанровую традицию, объясняющую замысел "Уединенного домика" гораздо лучше, чем сомнительные биографические интерпретации.
Без ответа, однако, остается поставленный Ахматовой вопрос: "После смерти Веры Павел сходит с ума. Но почему, скажите мне, он делает это точь-в-точь как самый знаменитый московский богач Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов?.."' Ответа на этот вопрос А. А. Ахматова не дает (в одном из вариантов работы она даже высказывает малоубедительное предположение, будто весь конец повести следует приписать В. П. Титову, который, "когда было нужно изобразить безумие, просто записал все слухи о Дмитриеве-Мамонове". Это неубедительно хотя бы потому, что никак не объясняет, чем связан такой конец повести с ее содержанием, кто бы ни был ее автором. Осмелимся высказать некоторые предположения, нимало не скрывая их сугубой гипотетичности.
Известно, что Пушкина интересовал сюжет "Фауста" (или "русского Фауста") и он многократно к нему обращался. Если рассмотреть повесть как рассказ о предыстории "петербургского Фауста", сделавшегося сначала жертвой волшебных сил, а затем погрузившегося в чернокнижие, то можно указать на некоторые дополнительные соображения. Основная часть сюжета повести рассказывает о торжестве нечистой силы над молодым героем, который "не со своим братом связался". Далее следует традиционное описание овладения героем колдовскими тайнами. Продолжение "фаустовского" сюжета должно было превратить Павла во владыку нечистых сил или в лицо, заключившее с ними договор. Завязанный таким образом сюжет открывал исключительные возможности для бытового или сатирического изображения в гётевском духе, а это, как известно, очень волновало Пушкина. По крайней мере, предполагая возможное развитие сюжета, нужно учитывать, что декабристские связи Мамонова остались для Пушкина тайной, как они были тайной и для исследователей до последних лет.
В Дмитриеве-Мамонове Пушкин видел не жертву политических преследований, а таинственную фантастическую фигуру "русского Фауста", чернокнижника, которого императорская реальность превратила в безумца. "Странные люди" вроде Мамонова или брата Орлова, израненного в 1812 г., а позже сделавшегося разбойником, неизменно волновали Пушкина - они давали возможность увидеть бытовую реальность при свете фантасмагории, а фантасмагорию понять как бытовую реальность.
1990
Источник: Ю.М. Лотман. О поэтах и поэзии
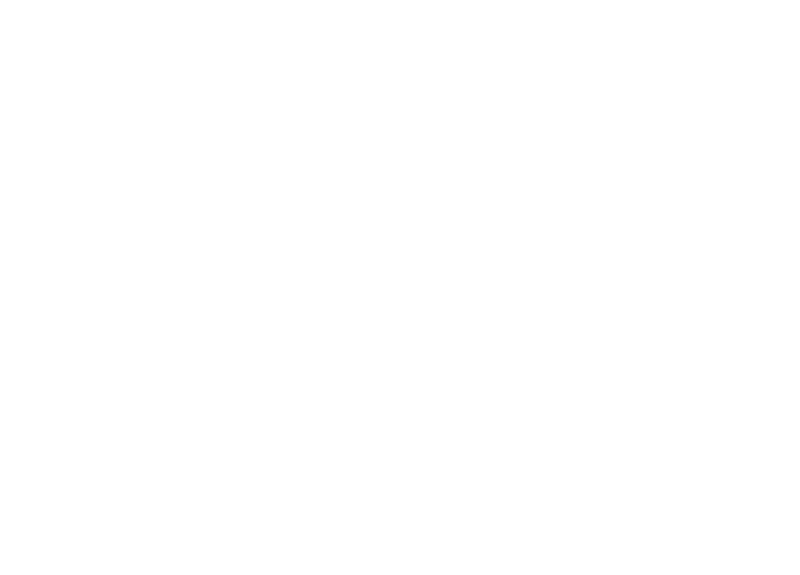
Приказ Управляющего имением гр. Дмитриева-Мамонова от 04.03.1855 о высылке крестьян за буйство...
Государственный центральный музей современной истории России
Государственный центральный музей современной истории России
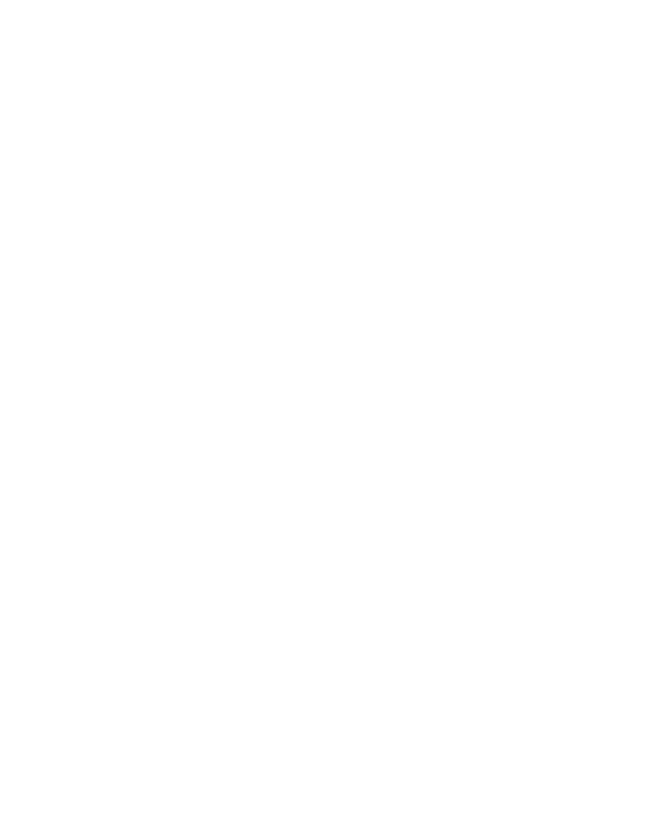
Продолжение следует...